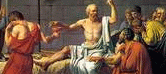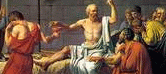НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ
УНИВЕРСУМ ПЛАТОНОВСКОЙ МЫСЛИ X
И. И. Авксентьевский
МЕТАЭСТЕТИКА ПЛАТОНА
В ЭКСТАТИЧЕСКОМ ГОРИЗОНТЕ
СОВРЕМЕННОСТИ
В теме семинара (сборника) мы осмыслили себя как вызванные веком — нашим ближайшим будущим, как принимающие вызов вместе с Платоном. Заголовок этого текста уточняет тему. Выть вызванными будущим принадлежит коренным структурам нашей экзистенции наравне с быть ответствующими прошлому и быть достойными настоящего. Мы тематизирующе схватываем себя во времененности бытия — в экстатическом горизонте современности. Платон соприсутствует своим делом. Его дело — метаэстетика.
Заголовок намечает нам путь через три проблемы. Во-первых, каким образом Платон вообще нечто сбывшееся в культуре может нам соэкзистировать? Во-вторых, в чем определенность дела Платона: что стоит за термином «метаэстетика»? В-третьих, если слово Платона акцентированно трансцендирует все временное, а наше слово тематически бытийно-времененно, то благодаря чему первое слово уместно во втором?
Первый вопрос. Кажется, все просто: текст Платона перед нами, и мы, выговаривая из текста платоновское слово, образуем собственное. Но является ли текст местом, хранящим слово и дающим его проговаривать? Раз Платон в центре нашего внимания, спросим у него.
В заключении «Федра» ставится вопрос о способах бытия изреченного слова. Платон указывает на несобственный и собственный способы говорения — на письменную и устную речь. Письменное слово расхоже. «Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде —и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет (275е).» В расхожести такое слово подвергнуто опасности: «.. .им пренебрегают или несправедливо его ругают», добавим, его приручают. Расходясь, записанное слово обнаруживает свой коренной порок — неспособность «ни защититься, ни помочь себе». Не способное толковать себя, это слово отдается толкам.
Другое дело — слово на устах. «Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать (276а)». Объяснение — лишь предварительный модус самотолкования устного слова, фундаментальный же — порождение. Говорящий, обращаясь к подходящей душе, «со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, способные помочь и самим себе, и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным... (276 е)». «Живая и одушевленная речь» хранит себя самотолкованием порождения.
Письменная речь, замечает Платон, связывая различенное, — отображение устной речи. В горизонте платоновской мнемонической психологии является отображением означает напоминание. Текст не хранит слово, но лишь напоминает о хранимом, отсылая к нему.
Намечается ответ на первый вопрос исследования: Платон участвует в нашем деле живым словом. «Живое слово» может остаться метафорой, если мы не уточним его место — его хронотопос. Является ли таковым индивидуальная душа, в пропедевтическом расположении назидающая или внимающая другой душе? Кажется, что именно эта цепь научений дает живому слову статус вечнозвучащего. О том, вроде бы, и ведется речь в платоновском «Федре» — речь, которую мы уже расхоже приручили. Но всходы живого говорения Платона — это вопрошание о том, уместно ли вечнозвучащее слово в индивидуальной душе, равно как и в преемственности душ. Слово выявляет роды и виды как истину сущего и вместе с ними не вмещается в душу. (Скорее душа — в эйдосах, чем эйдосы — в душе.)
В «Тимее» Платон набрасывает хронотопику живого слова. Место этого слова — космос, скрепленный мировой душой. Душа мира — некий особый вид сущего, который, присутствуя при любом сущем, дает ему сказаться в его природе. Но сказаться — значит осмыслиться, отразиться во всяком сущем. Этим словом мир участвует в каждом мирском, собирая себя. Душа мира есть само речение сущего.
Дающее говорить иному прежде говорит с собой. Поэтому душа есть и небо, охватывающее мир, «кругообразное и вращающееся, одно-единственное, но благодаря своему совершенству способное пребывать в общении с самим собой, не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим собой (34Ь)».
Пронизывая мир, душа возбуждает сущее к говорению. Почему сущее отзывчиво душе? Некоторым образом оно уже сказано в ней, ведь в душе растворены все природы сущего: тождественное, иное и их непосредственное единство. Поэтому, каким бы ни было некое сущее, оно всегда как-то задето душой. «При всяком соприкосновении с вещью... она всем своим существом приходит в движение и выражает в слове, чему данная вещь тождественна и для чего она иное, а также в каком преимущественном отношении, где, как и когда каждое находится с каждым, как в становлении, так и в вечной тождественности, будь то бытие или страдательное состояние. Это слово, безгласно и беззвучно изрекаемое в самодвижущемся космосе, одинаково истинно, имеет ли оно отношение к иному или тождественному (37а)».
Слово, изрекаемое при встрече мировой души и некоего сущего, вещает по всему кругу космоса. И в этом вещании случается ему осуществлять, в зависимости от природы затронутого сущего, «прочные мнения и убеждения», «ум и знание». Осуществление этого требует участия в говорении еще одного сущего — сущего, природой которого является иметь слово, — человека. Человек в расположение мнения ли, убеждения ли, ума ли, знания ли имеет слово в говорении сущего — в душе мира. Только в этом говорении уместно сеяние, о котором ведется речь в «Федре», только так пропедевтика культуры получает онтологическое основание.
И мы, вызванные грядущим, озабоченные бытием, при напоминании платоновского текста, размыкаем сущее как язык — язык, в котором вещает слово Платона, соучаствуя в исполнении нашего призвания. Таково решение первой проблемы.
Второй вопрос — о собственной определенности платоновского слова. Оно, возводящее говорящего от чувственного к обосновывающему нечувственному, традиционно называется метафизикой. Поскольку у Платона мы впервые встречаем теорию такого возведения, то по праву считаем его отцом метафизики. Поскольку метафизическая фигура лежит в основании любого мудрствования, то Платон заодно стоит у истоков философии вообще. Но не должны ли мы назвать платонизм так, чтобы в названии сказалась определенность его метафизики? Дело тут, конечно, не в названии, а в понимании платоновского события.
Метафизика — это слово, обосновывающее фюзис трансцендированием. А фюзис — прирождающееся в непосредственность чувственного схватывания сущее. Коренной вопрос всякой метафизики — вопрос о возможности такого прирождения. Определенность греческой метафизики (Платон — ее классический представитель) следует искать в особенности фюзиса греческой культуры. В эллинском событии сущее всегда уже наперед разомкнуто в горизонте красоты: оно прирождается в непосредственность эстетического схватывания. Платоновское трансцендирование — это обоснование прекрасного сущего. Идея безвидна, но именно она дает сущему видеться прекрасно. Она хранит сущее в красоте. В этом смысле идея прекрасна. (Лекарство, говорит Аристотель, мы называем здоровым потому, что оно позволяет человеку быть здоровым.) Хранящая фюзис, идея причастна ему. Греческое «мета» означает не только «за», но и «для», и «среди».
Истолкование платонизма как метаэстетики, вроде бы, подразумевает предопределяемость платоновского слова греческой культурой. Однако философское слово само снимает свое «пред». Без платонизма культурное эстетическое событие еще не состоялось. Только обосновывающее слово Платона, замыкая греческий мир, позволяет последнему ретенциально (в интенции, удерживающей прошлое как настоящее) исполниться в красоте. Обоснование происходит, конечно, в трансцендировании греческого мира. Но переход за предел есть и полагание этого предела — определение. Одновременно слово Платона, переходя за предел, размыкает иную перспективу и в ней протенциально (в интенции, проектирующей будущее как настоящее) представляет грядущей культуре событие греческого эстетизма, схваченное в целостности. Усмотрим ли теперь во вращений мировой души, резонирующей живому слову, историческую поступь культуры? Во всяком случае, поставленная задача решена: платоновская философия истолкована как метаэстетика.
Третий вопрос (об уместности слова Платона в нашем говорении) уже заострен предыдущим рассуждением, где мы очевидно временили платонизм. Платоновский выход из временно сущего в безвременное мы истолковали как исторический сдвиг бытия, в котором временно сущее (греческий эстетизм) смещается платоновским словом в прошлое, а безвременное выступает проектом будущего (христианского слова). Платоновский экстаз осмыслен нами в экстатичности времененного бытия. Понятно почему. Платон соприсутствует в нашем языке, на этом языке мы спрашиваем и внимаем, а в нем всякое трансцендирование открывает временной и только временной смысл бытия. Но важно выяснить, насколько слово Платона может разговориться в этом языке, — насколько времененность бытия уже проблемна для самого Платона.
В «Тимее» (где, по замечанию Платона, о преходящем сущем говорится лишь с условной истинностью) время сказано как «движущееся подобие вечности», как «для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу» (37d). Время — само себя исчисляющее число. В этом исчислении единое присутствует во множестве так, что оно всегда явлено в чистоте своего эйдоса — как единица. В бегущем числе и множественность присутствует в едином так, что явлен эйдос множественного — беспредельное. Но во времени явлена и неизбежная сопричастность единицы и беспредельного. Не есть ли время поэтому и «вечный образ» вечной сопричастности единого и многого? Тут же, в «Тимее», выясняется и неизбежность бытия сказаться во времени. Когда высказывается вечное бытие, оно неминуемо попадает в модус настоящего: бытие есть (но не было, не будет). Это «есть» не теряется и тогда, когда в игре времен сказываются иные смыслы бытия — бывание и небытие: «... Мы говорим, будто возникшее есть возникшее и возникающее есть возникающее, а имеющее возникнуть есть имеющее возникнуть и небытие есть небытие (38b)». Правда, «во всем этом нет никакой точности».
Точность появляется там, где слово Платона, избегая двойственности говорения (о едином — в идее, об ином — в образе), сопрягает условия сущего в эйдетичекой напряженности, — в «Пармениде». Возможность такого сопряжения предоткрыта Платоном в «Тимее», где вместительница (беспредельное условие сущего) намечена как «незримый, бесформенный и всеприемлющий вид, чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом (51а)».
«Чрезвычайно странный путь», на котором эйдосы единого и иного (определяющего и беспредельного) вдруг становятся сопричастны, — путь вмещения. По этому пути идет слово Платона в «Пармениде», гонимое императивом: «Но существующее должно же всегда где-нибудь находиться (151а)». Единое и иное причастны друг другу способом давания места. Диалектика эйдосов — игра их взаимного вмещения. По мере того как в этой игре бытие открывается в необходимости не быть, обнаруживается и отрицательность вмещения. Такую отрицательность выдерживает только время. Оно скрытый мотив игры. Время не место, оно давание вмещать. Его экстазами (временами) отрицаемо смещаются (экстатируют) эйдосы, давая себя как место друг другу.
В порыве игры Платону открывается неведомый ранее экстаз времени, экстаз, конституирующий время наравне со «стало», «стоит», «станет» (и даже преимущественно),— экстаз вмещения играющей вечности, «вдруг» (156d).
Проговаривание первого вопроса текста указало формальную возможность соприсутствия слова Платона, второго — содержание слова, третьего — ввело нас в резонанс с ним. Проговаривание шло в усмотрении какого-то нашего дела. Должно в заключение хотя бы намекнуть на него. Наше дело, начатое Ницше, Гуссерлем и Хайдеггером, — обосновывающее трансцендирование сущего как постава. Нашим фюзисом является техника — сущее, прирождающееся в непосредственность инструментального схватывания. Сущее прирождается из истории бытия — истории, вмещаемой живым языком. В живом языке встречается слово Платона, представляющее эстетизм как глубинный исток прирождения сущего. Трансцендирование сущего — это реструкция его как языка. В реструкции перерождается и слово Платона, соосмысляя с нами бытие в экстазах времени. Для этого слова самотолкующее перерождение — приобщение к вечности.
Авксентьевский Игорь Игоревич - канд. филос. наук, докторант философского факультета СПбГУ
© СМУ, 2007 г.
НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ