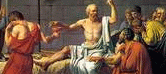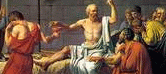НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ПЛАТОНИЗМА ВЫП.1 с. 11
Р.В. СВЕТЛОВ
ПЛАТОНИЗМ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМА»
В ПОНИМАНИИ ПЕРВОНАЧАЛА
Среди историко-философских проблем особым вниманием всегда пользовалась тематика различения больших культурных эпох. Очевидно, что античность, средневековье, Новое время в истории европейской культуры отличались друг от друга не менее сильно, чем, например, Восток от Запада. Но в чем заключались их различия помимо таких общеизвестных критериев, как принятие христианства или наступление эпохи «светского философствования», сказать чаще всего трудно. Изменения горизонта самосознания человека, замеченные при взгляде на историю «с высоты птичьего полета», размываются при ближайшем рассмотрении. Напротив, то, что казалось провалами, разрывами между традициями, вдруг приобретает вид плавного перехода, где континуальное превалирует над дискретным. Более того, прошлое неожиданно раскрывается во всем богатстве проблем и обобщений, казавшихся при взгляде на историю «с высоты птичьего полета» прерогативой гораздо более поздних эпох.
По-видимому, форма ментальности каждой эпохи в свернутом виде уже содержит в себе определяющие моменты для форм ментальности каждой из последующих эпох и многообразно связана с ними. Иными словами, культурно-исторические эпохи находятся во взаимоотношениях, которые не вместить в привычные представления о смене культурных архетипов. Это заставляет сомневаться в правильности краеугольного камня нынешнего исследовательского подхода к культурному и философскому наследию — в идее историзма. Мышление, обращенное к прошлому, снимает дистанцию, а не устанавливает ее. Причем снимает вполне в гегелевском смысле данного слова: не модернизируя и не впадая в противоположную крайность, крайность неодолимой оторопи перед чем-то якобы совершенно чуждым. В конце концов, такое мышление провоцируется не одним лишь архивным интересом — по крайней мере в своих лучших проявлениях (которых наш век знает немало). Оно «понимает», что прошлое является активной силой, присутствующей в настоящем, предопределяющей формы нашего миросозерцания. Раскрывая прошлое для современного читателя и само раскрываясь в прошлом, через посредство прошлого, оно, в сущности, свидетельствует о единстве своих носителей. О том единстве, для которого историческое есть «всего лишь историческое», а не Дамоклов меч, висящий над каждой попыткой обобщающего мышления.
Единство вовсе не означает «гегелизма» в подходе к исторической реальности, т.е. отвержения содержания мысли ради ее самотождественной формы. Но оно лишь вынуждает искать то, что действительно и по существу отличает культурные эпохи друг от друга, причем искать не с точки зрения «птичьего полета», а в самой ткани тех прежде всего веков, что соединяли и разделяли одновременно великие эры в истории человечества.
Для всех исторических переломов европейской культуры архетипическими являются первые столетия новой эры. Перелом между язычеством и христианством, между расцветом империи Антонинов и «темными веками» варварских королевств кажется ошеломляюще резким; с другой же стороны, средневековье вырастало из античности, являвшейся для него питательной средой; оно немыслимо без последней. Если имеет смысл говорить о различиях античного и средневекового мироощущений, то они обязательно должны были бы проявиться здесь. Мы не станем касаться религиозно-богословских споров, античного «космоцентризма» и средневекового «теоцентризма». Обратимся к тому, что наиболее фундаментально для любой культуры — к категориям, через которые античность и средневековье мыслили первоначало. Тем более, что все остальные характерные черты культурной эпохи — обычно лишь следствия этой.
Античность в данном вопросе не представляла собой монолитного целого, в том числе и с точки зрения философских концепций Абсолюта. Мы имеем в виду даже не разницу в учениях различных школ, а также таких эпох — иначе не назовешь — в истории античного мышления, как натурфилософия и метафизика. Бытие-природа натурфилософов и Единство, или Простота, метафизиков — это два действительно различных взгляда на Начало. Абсолют, который есть само естество сущего, и Абсолют, превосходящий всяческое естество, сводимы друг к другу только в их общем породителе: в классическом античном вопрошании «Что есть Все?», имевшем результатом столь же классический (почти ритуальный) ответ «Все есть Одно». Но для того, чтобы усмотреть, в чем они еще общи друг другу, нужно выяснить, являлось ли Первоначало в трактовке метафизиков ответом на содержательный запрос натурфилософии. Тем более, что в реальности история античной мысли была сложнее и противоречивее: напомним хотя бы о стоицизме, воспроизводившем в своей космологии (правда, только в ней) чисто натурфилософскую традицию Анаксимена — Гераклита — Диогена Аполлонийского.1 А ведь стоицизм — «дитя» эллинизма: он возник уже после классического века античной метафизики. Таким образом, в поисках общности взглядов Гераклита и Платона, Эмпедокла и Аристотеля, натурфилософии и метафизики нужно выйти за пределы генетической связи, обратиться к единству сущностному. Но поиски эти осложняются еще и тем, что сама античная метафизика в вопросе об Абсолюте приходит к далеко не единым выводам. Аристотель и традиция, так или иначе с ним связанная, считали Началом Ум, причем Ум сущий, актуально бытийный. Традиция эта включает в себя не только Ликей, но и так называемый средний стоицизм и платонизм (по крайней мере, ряд платоников II в. н. э.).2 В платонизме же Древней Академии Первоначало превышает бытие, оно сверхсуще и сверхсущностно, т.е. не может быть отождествлено ни с чем чувственно или умопостигаемо данным. В этом плане оно не есть Ум, а потому постижение его начинается лишь тогда, когда умолкают не только чувства, но и мышление.
Однако когда мы обращаемся к III—IV вв. н.э., т.е. ко времени, когда античная мысль суммируется в неоплатоническом учении и, с другой стороны, христианство начинает обретать собственный богословский язык, то мы видим, что языческая философия приходит к отстаиванию совершенной сверх-бытийственности Абсолюта, христианская же теология преимущественно говорит о «сущем» Божестве, хотя и превышающем конечные определения, но являющемся разумным духом и бытием. «Ареопагитики» и мистическая традиция, ориентирующаяся в средневековье на них, как мы увидим ниже, не противоречат данному определению, так как почти неоплатоническая строгость апофатики имеет в них не онтологический, а мистико-познавательный смысл. Если в вопросах богословия можно констатировать безусловное влияние неоплатонизма на средневековье,3 то в вопросе об онтологическом статусе Начала они столь же безусловно отличаются друг от друга. Чтобы ответить на вопрос, представляли ли собой противостоящие концепции то, что действительно легло в основание различия между античным и средневековым культурными горизонтами, попытаемся осознать разницу между «платонизмом» и «интеллектуализмом».
Начнем с того, что и языческая античность, и христианская культура исповедовали при определении Абсолюта апофатический подход. Апофатика по природе присуща религиозному опыту, так как она конструирует ту ситуацию, в которой изначально находится человек по отношению к сверхъестественным силам. Грехопадение (в теизме), или уход в прошлое золотого века, той доисторической ситуации, когда небо и боги, населявшие их, были рядом с землей и еще не смертным человеческим родом (в язычестве), создает преграду, разделяющую горнее и дольнее. А она уже вызывает особое отношение сотворенного к Создателю, основывающееся прежде всего на стремлении не отождествить Абсолют с какой-либо из низших инстанций бытия. Несомненно, что производящее начало превосходит то, что им произведено, иначе - и это знали еще Ксенофан и Горгий - созидательная деятельность превратилась бы в дурную форму эманации, в простое самораспространение, лишенное смысла. Но если между создателем и созданным имеется серьезное различие, познавательное отношение второго к первому не может опираться на аналогии с сотворенным миром. Очень точно сформулировал данное положение Филон Александрийский, утверждавший, что миропознание может привести лишь к признанию бытия Божия, но не к познанию его.4 Действительно, поскольку наш язык и логический инструментарий приложимы именно к здешнему, «посюстороннему» миру, то возникает вопрос, можем ли мы, используя их, хоть что-либо сказать о силах, превосходящих все известное нам? Тем не менее мы вынуждены говорить, так как для религиозного сознания Создатель является той высшей скрепой, без которой дольний мир не только не может быть познан, но и не существует. Именно это и есть ситуация апофатического восхождения к Божеству. Она обнаруживается уже в самых древних традициях - например, как табуирование имени Божества, которое закрыто для человеческого слуха. Его обозначают такие иносказания, как «Господь» (Адонаи), «Владыка Мудрости» (Ахура-Мазда), «Отец Дня» (Юпитер). Дух апофатического отношения проявляется и в процедуре священного молчания, бывшего обязательной составной частью храмовых действ, и в «молчании разума», к которому призывали многие древние религиозно-философские учения и которое являлось, по их мнению, высшей формой богопостижения.
Однако апофатическая диалектика как таковая разрабатывается только при возникновении философии. В античности зачатки ее мы можем увидеть у элеатских мыслителей, особенно у Ксенофана. Классический же пример её - так называемые гипотезы платоновского диалога «Парменид» (показательно, что главным действующим лицом в нем выступает именно философ-элеат). Предлагаемые в этом диалоге суждения о возможности существования Одного (Единого) приводят к выводу, что мы не можем приписать ему никакого определения, не только положительного, но и отрицательного. Впрочем, этот результат лишь при первом приближении является негативным, ибо десятки страниц насыщенного метафизикой текста «Парменида» воспроизводят все возможные отношения между миром и этим непредицируемым нечто. Напомним, что языческая метафизика пришла к своему максимальному выражению в неоплатонизме. Наиболее же знаменитым произведением христианской апофатики являются «Ареопагитики» Псевдо-Дионисия, имеющие немало общего с «Эннеадами» Плотина.
Однако, возвращаясь к «Пармениду» Платона, следует отметить, что рассуждения этого диалога с необходимостью приводят к невозможности говорить о Первоначале как о Сущем, а следовательно, мыслящем объекте. Поэтому христианская апофатика должна отличаться от языческого платонизма если не логикой, то посылками.
Платон начинает с последовательного выяснения того, возможно ли хоть какое-либо отождествление Единого со многим.5 Никакое из определений многого при этом оказывается к Единому неприложимо. Между тем «многое» в «Пармениде» функционирует не только как логическая категория, но и как онтологическая реальность. Можно сказать, что Парменид и Аристотель (действующие лица этого диалога) под именем «многого» перебирают все феномены, в которых бытие заявляет нам о своем существовании. Однако выясняется, что искомое начало не находится ни в одном из них. В результате нетождественность Единого и многого приводит к выводу, что «единое никак не причастно бытию» (141 е). «Не существует оно, следовательно, и как единое». Поэтому «не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни восприятия чувствами, ни мнения» (142 а).
Впрочем, чисто отрицательный результат не удовлетворяет героев диалога. «Но возможно ли, чтобы так дело обстояло с Единым?», — вопрошает Парменид, и Аристотель отвечает, что, «как кажется», такого не может быть (142 а). Этот вывод, основанный, по сути своей, на изначально принятой интуитивной уверенности в присутствии Единства, вынуждает Парменида говорить о «бытии Единого», отличном от Единого, которое оказывается воплощено во всевозможной полноте логических (и, как мы видели, онтологических) понятий. Но бытие Единого - нечто, сохраняющее свою инаковость по отношению к нему самому6; поэтому окончательный вывод данного диалога можно сформулировать следующим образом: превосходя предикат существования, Единое превосходит также простое самоотрицание. Или: невозможность отождествить Единое «само» с какой-либо бытийной реальностью означает не небытийность, а сверхбытийность этого начала. В случае же его несуществования ничто не могло бы иметь основания к бытию.7 Именно поэтому несовпадающее с бытием Единство тем не менее присутствует как его фундамент. В познавательном плане это означает, что любое отрицательное суждение о Едином, отклоняющее какой-либо из необходимых логических предикатов, должно дополняться вторым отрицанием — не уничтожающим первое, а указывающим на превосходство искомого начала над любой парой противоположностей.8 Иными словами, в диалоге «Парменид» Единое нельзя определить как существующее, но нельзя говорить и о его несуществовании (Единое не есть и не не есть что-либо, в том числе и само бытие). Это и станет основным логическим моментом в апофатике языческого платонизма. Конечно, не все платоники уделяли апофатике пристальное внимание, но в III—IV вв., когда вопрос о Первоначале приобрел еще и религиозно-сотериологический статус, она станет неотделимой чертой высших форм мистического опыта.
Именно в апофатике, в соединении метафизических положений и мистических созерцаний, обретет свой энергетический заряд неоплатонизм. Уже «Эннеады» Плотина, вне всякого сомнения, являют нам его. Более полного обоснования невозможности отождествить Начало с чем-либо сущим, более полного развития идей «Парменида», но уже не в дидактическом их плане, мы не обнаружим нигде.
Апофатика Плотина имела еще и полемический смысл: Плотин полемизировал именно с тем, что мы обозначили как «интеллектуализм» (отождествление Начала с бытийным Умом), поэтому он постоянно подчеркивал запредельность Единого Уму и чаще всего возвращался именно к этому вопросу. Запредельность Разуму для Плотина была основой всего апофатического движения наших определений. Он писал: «Единое не входит сутью своей во все от него исходящее. Оно — прежде всего, в том числе и Ума, ибо в Уме все содержится».9 О Божестве рассуждать нужно очень осторожно, считал Плотин, так как «после установления первых родов сущего диалектика умолкает», как и все молчит, что достигло «тамошнего» (Энн. I.З.4.).11 Единое выше тела, пространства и времени, но оно также выше вечности, которой характеризуется именно Ум. Но, пожалуй, главным определением Единого, по Плотину, является то, что оно «превосходит сущность» (Энн. I.7.1). Беспредельное, не определимое никоим образом, оно по этой причине совершенно просто (Энн. II.9.1).12 Эта простота превосходит даже ту, что возникает в результате геометрического абстрагирования. Плотин писал: «Оно считается Единым более, чем едины единица и точка. Ведь здесь душа, отбросив величину и множество, останавливается на самом малом и опирается на нечто неделимое, однако такое, которое было в делимом и в ином. Единое же — не в ином...» (Энн. VI.9.6). Существо несоставное, оно не имеет необходимости «помышлять о себе...и без мысли оно — Само», мышление означает выход за пределы простоты (Энн. V.3.10). Таким образом, Единое, по Плотину, не ограничено своим знанием, оно вообще ничем не охвачено, ни иным себе, ни собой.12 Его необусловленность абсолютна. Его нельзя назвать и причиной: «Платон именует Бога отцом причины, понимая под оной Ум, который есть демиург» (Энн. V.1.8). Единое есть Благо, но Благо — не предикат его; Единое и Благо — синонимы, это одно и то же слово, лишь нашему рассуждению кажущееся различным (Энн. VI.7.38). Плотин в конце концов склонен отбросить и эти имена (Энн..V.4.6).
Лучше всего поступает, по его мнению, тот из познающих, кто «будет отрицать все, ничего не утверждая о нем, предоставляя Единому быть собой» (Энн. V.5.13). «Не нужно спешить к другим началам» (Энн. II.9.1).
Мы подошли к тому моменту, где приоткрывается основание неоплатонической метафизики, где на смену апофатической диалектике приходит апофатическая мистика. Дабы понятно было, о чем именно идет речь, следует обращаться не к известным образам страстного молчания, вызванного невозможностью что-либо сказать о Нем, или внутреннего святилища храма и т. д. (Энн. V.1.6). Необходимо еще раз вспомнить вопрос, которым завершается первая гипотеза платоновского диалога «Парменид». Действительно, если Единому нельзя приписать никаких предикатов, не означает ли это, что его не существует? Именно этот факт, факт небытия Абсолюта, мы должны прочувствовать, чтобы понять всю глубину интуиции Плотина. Абсолюта нет! Первоединое нигде и ни в чем; поиск не приведет ни к чему: любой из образов, принятый нами за начало, обманывает. Наши богопочитание и пиетет проваливаются в пустоту, в ничто, преодолеть которое, как кажется, нет сил и возможностей.13 У мира нет фундамента — имеет ли поэтому смысл что-то искать? А искать и не надо, убеждает Плотин. Осознавший глубину первого отрицания поймет и второе отрицание: мы не можем утверждать, что Единое есть, но мы не можем и говорить, что его нет. Простое отрицание должно оставить, так как граница небытия — это своего рода место испытания для поднимающегося к Началу, лишь очищает «совершенного» от человеческой привычки связывать Единое с чем-либо определенным. Единое выше определенности (впрочем, как и неопределенности), его неуловимость есть признак его вездеприсутствия, а не отсутствия.
Здесь, как представляется, уместно было бы говорить о Едином «существующем», тем более, что сам Плотин не раз дает нам повод к этому, рассуждая о нем как о принципе существования любого предмета. Но, пожалуй, и это его существование следует понимать в апофатическом духе — как непостижимое и невысказываемое. Неопределимое в бытийных категориях Единое является сверх- и дорефлексивным основанием Космоса; поскольку же в нем «снята» бытийная иерархия, то оно близко любой, самой малой из его частей. «Убеждение, общее всем людям…что Бог, присущий каждому из нас, один и тот же» (Энн. VI.5.1). «Все, имеющие понятие о Божестве, утверждают, что не только этот Бог, но и все боги вездесущи» (Энн. VI.5.4). Плотин согласен признать Единое за «подлежащее» всего сущего (Энн. V.6.3), но не как субстрат, делимый многообразием качеств, а как основание. Именно такое Единое, приводящее к целому каждую частичку бытия, может именоваться у Плотина ипостасью (Энн. VI.8.20). В данном случае это не «принижает» его, так как здесь подсказывается путь близости к Абсолюту. Освобожденный от власти внешней разнородности окружающих вещей, стремящийся к Благу субъект видит, что подлинным воплощением Единства является его присутствие в глубине всякой вещи, события.14
Бог находится во всем (Энн. II.2.1) — вот итог апофатики Плотина. Однако наличие во всем «Единого сущего» не обращает его в бытие в том смысле данного слова, который Платон рассматривал под категорией многого. Существование Единого не есть само Единое. «Везде и нигде» — так бы мы сформулировали Плотинову идею присутствия Первоначала в основании всего существующего. «Нигде» не уничтожает «везде», просто под последним нельзя понимать частные, конкретные характеристики предметов, где о Единстве можно говорить лишь потому, что предмет представляет собой некоторое организмическое целое. Обращение к глубине есть отрицание внешних атрибутов (в том числе — бытия!), не они содержат в себе глубинное, а наоборот. Да и как может быть иначе, если Первоединое — источник сущностей (Энн. V.1.7). Оно—«первая сила всего», потенция всех вещей (Энн. V.4.1; III.8.10).
Бездна молчания, о которой так часто пишется в сочинениях, посвященных неоплатонической теологии, не исчерпывает Плотинова отношения к Абсолюту. Невозможно говорить только о «метафизической сухости» или о потрясенном безмолвии. И первое, и второе — лишь моменты непростого пути достижения богоподобия. Результат же превосходит то, что довелось доселе испытать философу, так как «там» он обнаруживает все. В Едином «находится все»: и жизнь, и мышление, «только пребывающее в вечном покое и отличающееся от деятельности Ума» (Энн. V.4.2). «Существа присутствуют в Едином как прозрачность в свете» (Энн. VI.4.11). Единое содержит в себе целокупное бытие, но только в неразличенном, слитном виде, будучи творческой, производительной потенцией (Энн. V.3.15). Если раньше мы отвергали такие определения Начала, как жизнь, знание, вечность, то теперь нам следует вспомнить, что одновременно мы не можем и не приписывать их ему (сохраняя, однако, отрицание: не приравнивая его ни к чему конкретному, бытийному). Плотин во взгляде на Абсолютную Персону отличается, конечно, от христианских авторов. Он совершенно не рассуждает об историческом Откровении, история вообще не интересует его. Идея Спасителя не сосредоточивается в каком-либо конкретном лице; если речь идет о Промысле, то он касается отдельных душ (в отличие от Судьбы-Необходимости). Говоря коротко, мир и Верховная Персона Плотина внеисторичны (в чем и состоит принципиальное различие между античной и европейской концепциями личности). Однако Единое невозможно свести к метафизическому абстракту. Плотин свидетельствует о таком же живом общении, о котором пишут и христианские авторы. Апофатика не абстрагирует, не отвлекает от «существа дела», а сообщает истины о Первоначале.
Личностное отношение прямо связано с тем, что неоплатоническая апофатика мистична. Но в «Эннеадах» мистика не отрицает метафизики и не затмевает ее. Логика диалога «Парменид» сливается у Плотина с его личным опытом поисков абсолютного, «феноменология» внутреннего, человеческого мира оказывается необычайно близка структуре Универсума, который сам есть живое, содержащееся в Мировой Душе существо, стремящееся к познанию сверхисторичного создателя. Поэтому «сверхбытийность» Единого у Плотина имеет и мистико-познавательный смысл, указывающий на неповторимо-индивидуальное, интимно-личностное отношение к Божеству, и метафизический, определяющий подлинный статус Начала. Иными словами, утверждение, что Единое «не есть и не не есть» не столько показывает форму связи с Ним постигающего аскета, но и говорит о сверхбытийной Его природе в онтологическом плане.
Близость к учению Плотина «Ареопагитик» может навести на мысль о внутреннем единстве христианского и языческого богословия. Действительно, аналогий слишком много: Бог, согласно Псевдо-Дионисию, и не чувственно постигаем, и не умопостигаем (Ареопагитики. 1040 Д—1048 В). Он «в своем сверхъестественном бытии превосходит ум и сущее и потому вообще не есть ни что-либо познаваемое, ни что-либо существующее, а существует сверхъестественно и сверхразумно познается». «Полное неведение и есть познание Того, Кто превосходит все познаваемое» (1065 А — В). По Псевдо-Дионисию, Первоначало не только не приемлет никаких предикатов, «оно — ничто, в силу своего пресущественного отстранения от всего сущего» (593 Д). Признание превосходства Божества над всем в «Ареопагитиках» приводит к тому, что в этом сочинении отклоняется возможность отождествления Божества с Разумом — «Богоначалие является некой превышающей бытие Сверхблагостью, не как Разум или Могущество, не как Мышление или Жизнь, или Сущность, но как совершенно исключающее…все, что присуще сущему» (593 Д).
С «Ареопагитиками» в средневековье действительно была связана устойчивая традиция. Так, Иоанн Дамаскин утверждал, что Бог «не есть нечто из числа существующих не потому, чтобы вовсе не существовал, но потому, что превыше всего существующего, превыше даже самого бытия».15 Еще более настойчиво «Ареопагитикам» в данном вопросе следовал Григорий Палама и вообще исихасты.
Однако уже в тех же «Ареопагитиках» апофатические суждения перемешаны с катафатическими, не отклоняющими, но приписывающими Абсолюту целый ряд атрибутов. Причем мы не имеем в виду имена типа «Жизнь», «Свет», «Истина», «Искупление», «Правосудие» и проч. — те, которые Псевдо-Дионисий называет «благотворными исхождениями Богоначалия в бытие» (589 Д), а именно атрибуты разумности и бытия, «духовного» светоподобного существования. То, что казалось бы, должно отрицаться, приписывается Началу, только в ином„ «сверхчеловеческом» смысле.
И тогда оказывается, что «Ничто» и бытийно, и разумно. «Оно по бытию своему (курсив мой. — Р. С.) является причиной существования всего сущего…и по бытию своему оно является причиной происхождения и основанием сущего» (595 Д). Оно есть «все во всем» как «Основание, Начало, Совершение и Содержание всего сущего…» (596 С). Ареопагит не отрицает такие предикаты Божества, как «Сущий», «Благой» и прочие, присутствующие в Библии. Точно так же Оно оказывается Умом, Истиной и Премудростью (865 В — 869 С). Последняя, «неизреченная, непознаваемая и безумная», являющаяся тем не менее «причиной любого ума и разума, любого познания и понятия» (868 А), уже выводит Первоначало за грань абсолютной (онтологической) трансцендентности. «Софиологические» концепции, встречающиеся в восточном христианстве, а затем возрожденные русской религиозной философией, как нельзя лучше характеризуют представления о Божестве, свойственные «Ареопагитикам». Премудрость Творца, непостижимая для человека, тем не менее характеризует Его и как реальность онтологического характера. Бытие Абсолюта «сверхбытийно» для человеческого знания, но от этого оно не перестает быть бытием.
Наконец, указывает на бытийный статус Абсолюта принятая христианским вероисповеданием формула «единосущия» и «триипостасности». Для классической античной философии «единосущие» означало родство не только субстанциальное, но, и субстратное. В словоупотреблении христианских богословов оно теряет значение субстратное (т.е. делимости), но субстанциальность означает сущностность, следовательно, нетрансцендентность в онтологическом плане. «Ипостась» также указывает на сущностное бытие, бытие обоснованное и неслучайное, имеющее начало в себе, но и предполагающее иное себя. Как мы видели, у Плотина «ипостась» употреблялась по отношению к Единому лишь когда последнее мыслилось как сущее.
Таким образом, христианский апофатизм, следуя логике языческой метафизики, исходит, однако, не из собственно онтологической, а из гносеологической проблематики. Онтологическое выступает здесь лишь в той мере, в какой оно проявляется для человеческого познания. Так, у Плотина постепенное очищение от чувственных, рассудочных данностей, от ноуменов не только приводит к постижению Божества, но и устанавливает статус этих уровней бытия. Несмотря на то, что в неоплатонизме человек не может быть назван единосущим Абсолюту, он не удален от того пропастью грехопадения и тем фактом, что душа имеет бытие лишь по дару благодати.16 В результате неадекватность ее способностей при познании Непознаваемого оказывается одновременно и неадекватностью уровней бытийной иерархии для оценки того, что ее превосходит.
Напротив, христианская апофатика гносеологична. Она замыкается внутри восходящего движения твари к Творцу; движения, которое в принципе не завершимо отождествлением первого со вторым, а потому выражается через метод отрицательного богословия. Но это не означает, что Превосходящий бытие в человеческом смысле данного слова сам не есть бытие.
Апофатическое богословие христианства говорит о непостижимости сущности Творца, а не о невозможности приписать Ему определение сущности. Следовательно, и трансцендентность Бога миру имеет иной, чем в неоплатонизме, смысл. В последнем она основывалась на отличии сверхсущего от сущего, в христианстве же — Творца от твари. Непостижимость оборачивается идеей бесконечности Божественного бытия. Атрибут бесконечности по отношению к бытию представлялся античному сознанию неприемлемым. Анаксимандров «апейрон» означал скорее неопределимость, чем беспредельность. Ксенофан, Парменид, Платон, Аристотель связывали бытие с идеальной или природной формой. Быть — значит быть определенным, оформленным. Бесформенность и беспредельность как простые отрицания неизменной формы относились к низшему, материально-становящемуся субстрату. Высшее начало, принцип бытия (например, Единое) понимался как простота, превосходящая определения конечного — бесконечного, и, следовательно, превышал форму, а не отрицал ее. Еще Ориген, находившийся под несомненным влиянием античной парадигмы, утверждал, что Божество не может быть безграничным, так как это означало бы невозможность объять самого себя в усилии разума, а следовательно, неразумность Начала (О началах. I.1.1). Однако Климент, Григорий Нисский, Августин говорят о беспредельности Божества («Бесконечное море Божественной Сущности». — Григорий Нисский). И для них это уже не отрицательное определение, которое абстрагировало бы, т.е. отвлекало бы определяемое от реального бытия, а положительный предикат, указывающий на непознаваемость сущности Абсолюта.
У первых христианских богословов «интеллектуализм» в понимании Начала заметен очень явственно. Особенно показательны представления Тертуллиана, у коего существо Бога характеризуется совершенным разумом, могуществом и жизнью. Божество для Тертуллиана — максимум бытийственности, ограничивающий мир.17 Бытийственности во всех смыслах данного слова: Тертуллиан не ограничивает ее поэтической формой — божественность в его понимании означает и «бесстрастные страсти», и особую пневматическую телесность. Объемля собой все сущее, для всех аспектов оного Абсолют выступает в качестве их истины, их совершеннейшей реализации, в том числе и духовно-телесной.
Точно так же «чистым духом» Первоначало называет Климент Александрийский (Педагог, I.8). Он полемизирует с идеей «телесности» Божества, но считает Начало всезнающим, благим, любящим, т.е. приписывает ему предикаты «разумного духа». В конечном итоге Бог у Климента не только «монада», но и «всесовершенная декада» (Строматы, II.11, VI.16). А декада — завершение элементарного числового ряда; следовательно, единство, приписываемое Абсолюту, — это единство полноты (Плеромы) всего сущего. Вспомним, что в пифагореизме декада являлась одним из наиболее почитаемых чисел, поскольку содержала в себе все простейшие арифметические соотношения. Поэтому она по своей природе «сосчитываема» и «разумна». Ясно, что Климент обращается к пифагорейским представлениям, дабы подчеркнуть интеллектуальную суть Бога-Декады.
Ориген еще более удален от языческой апофатики, поскольку он считает, что божество есть «Ум, и в то же время источник, от которого получает начало всякая разумная природа или ум» (О началах. I.1.2). Средоточие мира содержит в себе все, все аспекты бытия, только в их наилучшем, реализованном, истинном виде. Бог — «истинная и самобытная жизнь» (О началах. I.1.6), по Оригену.18 И его утверждения означают не «попытку проникновения эллинизма в церковь» (как считает В. Лосский19), а указание на онтологическое положение Начала, не противоречащее новоевропейским и средневековым идеям, указание, не отрицающее непостижимости этого Бытия, Ума, Жизни при помощи лишь человеческих способностей познания.
Ошибкой было бы предполагать, что только на рубеже II— III вв. сложилась та форма суждений об Абсолюте, которую мы обозначили как «интеллектуализм». Уже Филон Александрийский дает нам пример ее. Бог, согласно этому эллинизированному иудейскому экзегету, пребывает в себе и у себя, но он есть и, нарекая себя именем «Сущий», дает единственно возможное определение своей природе, непостижимое, впрочем, человеческим разумом. Бог есть самое родовое и общее, однако общее относится к постигаемому умом, что выводит Начало за пределы чувственно данного, но не за пределы объектов мышления. Да и само это Начало интеллектуально, так как оно знает себя и мыслит мир (идеи, составляющие «умопостигаемый Космос» Сына Божия Логоса, есть «мысли Бога о мире»).
Влияние Филона на богословов «века Оригена» несомненно. Александрийские христианские авторы ссылались на него более, чем на кого-либо из других мыслителей. Но «интеллектуализм» в первые века нашей эры присутствовал не только у авторов иудаистского или христианского планов. Например, знаменитый платоник и неопифагореец Нумений из Апамеи, наиболее почитаемый языческий философ в конце II — начале III в., считал Первоначало «самосущим Умом».20 Поскольку же Нумений принимает определение Блага из «Государства» Платона («превыше сущности»), он утверждает, что этот Ум, больший идеи и сущности, мыслит последние. Они составляют мыслимое, которое ниже мыслящего и является особым началом — «Вторым Умом» (фр. 13). «Осуществленность» мыслимого в виде особой реальности не означает его независимости. «Второй Бог (Ум)» существует лишь благодаря подражанию Первому, но Нумений не говорит о тождестве мыслящего и мыслимого. Идеи у него как бы «измышляются» Умом, выводятся им из своей природы. Подобно идее Филона, которая обязательно связана с волевым актом Божества, идея Нумения также полагается и волится Божеством. Не мысль оказывается зависима от содержания, а содержание становится вторичным по отношению к мысли. Здесь и Филон Александрийский, и Нумений находятся очень близко к новоевропейским воззрениям, возводящим познающий ум над познаваемыми объектами. Между тем для античности это — нонсенс: для античности мышление является родом стремления, а стремление указывает на ущербность стремящегося, на то, что ему чего-то не хватает. Поэтому и Бог Филона, мыслящий мир, и «Первый Ум» Нумения не могут быть высшими принципами в системе античного миросозерцания. Лишь «интеллектуализм», для которого мыслительное движение оказывается более предпочтительной характеристикой, чем завершенность и простота, принимает за Начало реальность, мыслящую нечто более низкое.
Популярность Нумения (даже Плотину приходилось защищаться от обвинений в том, что его сочинения — лишь пересказ Нумениева учения) свидетельствует о широком распространении интеллектуалистских идей. Причиной их распространения мог быть начавшийся поворот в миросозерцании античности, ее движение в сторону средневековой парадигмы. Определяя этот поворот ближе, мы укажем на историзм возникающей культуры. «Историзм» — понятие, которое требует, конечно, многообразного и подробного определения. Отметим только одну его сторону — понимание Абсолюта как существенно «историчной» силы. «Историчность» в данном случае означает то, что творимое Божеством бытие по своей природе имеет единую судьбу, не сводимую к совокупности повторяющихся сюжетов, а составленную из ряда неповторимых событий. Хотя человеческое измерение в этой судьбе связано со свободным волеизъявлением людей, в общем виде она конструируется и направляется деятельностью Творца: его заветами и богоявлениями, самое важное из которых — пришествие Христа.21 История создается Богом, но само Божество тогда является деятельностью. Пусть не подвластной времени, пространству, миру, однако творящей все это и участвующей в нем, направляя движение событий. Высшая же форма деятельности — мышление, ибо оно содержит в себе и Премудрость, и Промысел, вместе с тем оставаясь собой, сохраняя свободу от пространственно-временной обусловленности. Только как разумный, мыслящий (пусть сверхчеловеческим образом) Абсолют могло быть понято христианскими экзегетами волящее, врывающееся в жизнь дольнего мира Божество Ветхого Завета; в ином случае оно превратилось бы в одно из частных этнических божеств, самоутверждающих себя перед другими богами, а потому не удовлетворяющих высшему смыслу слова Начало.
Мы назвали «историзм» чертой средневековья, но и Новое время остается в его границах. Новоевропейская тяга к метафизическому конструированию Абсолюта, к выведению всего сущего из единого разумного принципа, обосновывающего разворачивание бытия и самого являющегося этим разворачиванием, является вполне логичным продолжением средневекового «интеллектуализма». Так называемый дух рационализма новоевропейской философии (от Бэкона до Фейербаха и Маркса), убежденной, вне зависимости от того, «материалистической» или «идеалистической» эта философия являлась, в конечной разумности всего сущего, опирается на представление о Начале как о чем-то интеллектуально охватываемом либо же прямо тождественном интеллекту. Иными словами, речь идет о субстанциализированном «разумном духе», утерявшем свою трансцендентность не только в онтологическом, но и в гносеологическом плане. В этом начале присутствует активно-волевой момент, для «рационализма» совпадающий с мышлением (и лишь в философии жизни из него вычлененный). А потому мышление деятельно, продуктивно и «творит» свое собственное содержание.22 Гегелевские суждения здесь, конечно, наиболее показательны, так как они суммируют этот «дух рационализма». В «Лекциях по философии религии» Гегель утверждает: «Бог в своей вечной всеобщности различает себя, определяет, полагает другое самого себя, а также снимает это различие, находится в нем у самого себя и только посредством этого порожденного бытия есть дух».23 И это указывает не только на внутреннюю структуру Троицы, но и на диалектическое движение мышления, отсылая нас к «Науке Логики». Вечное бесконечное бытие есть одновременно абсолютная идея; но «есть» означает не абстрактное равенство, а взаимную опосредованность, т.е. мышление, высшая форма которого — диалектическое движение. Гегель мыслит в рамках принципа тождества бытия и мышления, не предполагающего ничего иного помимо себя. Единственно, что данное тождество учитывает обязательно — это момент различия, превращающий его в процесс.
Уподобление средневекового и новоевропейского «интеллектуализмов» возможно, конечно, только до определенных пределов. Так, апофатика в XIV—XVII вв. сворачивается до догматического утверждения о бесконечности и непознаваемости Абсолюта, никак не сказывающегося в философии (за исключением Николая Кузанского и мистиков). Философия выстраивает такой метод рассуждений, который обращен к познанию природного («протяженного», «материального») и к самопознанию, а не к постижению сверхразумного. Может показаться, что апофатике близок критический метод Канта. Действительно, и апофатика, и критицизм задаются вопросом, как возможен разум. Оба метода выясняют его границы (следовательно, его определенность, сущность). Оба направлены от простейшего (чувственность) к сложному (рассудку, затем — разуму). И тот, и другой завершаются учением о Божестве. Но апофатика не только устанавливает границы познавательных способностей человека. Она есть движение снизу вверх (к Абсолюту), которое одновременно оказывается движением сверху вниз (движение от Абсолюта часто отождествлялось с благодатью). Мы не только «отклоняем» предикаты Первоначала, но и узнаем нечто существенное о нем. Недаром термин «апофасис» происходит от глагольной основы apo-femi, которая означает не только «откладывать», «отрицать», но и «говорить прямо». «Сверхразумность» начала становится энергетическим истоком движения к нему и, в конечном итоге, она устанавливает себя в достаточно строгой системе апофатических суждений. Сверхразумность не есть неразумность; она — фундамент разума, не просто находящийся вне него, но как-то в нем сказывающийся. Критический же метод оставляет Абсолют совершенно за пределами разума. С одной стороны, он, подобно апофатике, очищает наши познавательные способности от чрезмерных претензий: «критика есть необходимое предварительное условие для содействия основательной метафизике».24 С другой же стороны, Божество для него даже не идея, а идеал, чье существование доказать невозможно.25 Идеал нужен как скрепа окончательного единства архитектоники разума, лежащая, правда, совершенно вне его границ. Поэтому все суждения о ней лишь гипотетичны, но не теоретичны, не доказательны. Знаменитая критика доказательств бытия Божия, осуществленная Кантом, в целом близка скептицизму Юма,26 хотя и оставляет нам сферу, где мы не можем сомневаться в существовании Абсолюта, — сферу нравственного поступка.27 Однако все это — за пределами чистого мышления; в суждениях о своем окончательном единстве оно останавливается на никак не доказуемом идеале, являющемся продуктом спекулятивного интереса самого разума, однако ни на йоту не выходит при этом за собственные границы. Философское благоразумие Канта, превратившего в «вещь-в-себе» и субстанцию, и «я», и Бога, коренным образом отличается от «благоразумного дерзания» мыслителей, находящихся в рамках апофатики. Самозамыкание в «Критике чистого разума» кардинально отличается от апофатического понимания границы как не только того, что отчуждает, но и того, что соединяет.
Однако средневековый апофатизм, как мы это видели, отличается от античного, причем столь же существенно, как и от «критицизма». Платонизм стремился избавиться от антиномичности, христианская же культура принимала ее, выдвигая парадоксальные (для античного мышления) положения сверхразумного разума, сверхбытийного бытия. Упомянутая выше полемика Плотина с Нумением является полемикой именно с антиномизмом в понимании Первоначала. Действительно, единящее, монистичное мышление неоплатоников не позволяет говорить о разнице между мыслящим (если оно совершенно) и содержанием мышления. «Деятельность Ума — мышление, а мышление, лишь созерцая умопостигаемое и обращаясь к нему, получает завершенность; само же мышление есть нечто неопределенное» (Энн. V.4.2).28 Ум не может стать началом, так как он — рефлексивное, двойственное нечто, содержащее в себе и мыслящее и мыслимое (которые и тождественны и отличаются друг от друга). «Диада» же для неоплатоников никогда не предшествует «монаде». Таким образом, Плотина и его последователей не устраивает в «интеллектуализме» невозможность опереться на двойственное Начало как на нечто неколебимо неизменное. Ум есть движение, движение самосознания, возвращающееся к себе, однако даже такое движение, в сущности оборачивающееся покоем, для неоплатоников недостаточно устойчиво. Начало должно превышать и покой и движение как взаимообусловленные (взаимоопределяемые) категории. Устойчивым может быть лишь совершенно непротиворечивое,29 т.е. такое начало, которое ничему не противолежит, которое превосходит сферу противоречия. Христианские же авторы (и Нумений) вводят с последовательно развиваемой точки зрения неоплатонизма противоречие туда, где его просто не может быть.
Тертуллианово «верую, ибо абсурдно» указывает способ, при помощи которого христианская мысль стремилась снять антиномизм: во-первых, «абсурдность» здесь не отрицает сверхчеловеческий разум, не вмещающийся в человеческие понятия; во-вторых, она снимает противоречия и парадоксы актом веры, волевого самоопределения, не обусловленного даже самой утонченной логикой. В новоевропейскую эпоху таким «снятием» будет методическое мыслительное движение, для которого само противоречие явится одной из важнейших предпосылок (пока Шопенгауэр не повернет вновь философский интерес к волению и воле). Однако все эти «снятия» уводят нас совсем в иной способ мысли, существенно отличающийся от Плотинова.
Различие между «платонизмом» и «интеллектуализмом» в трактовке Первоначала возвращает нас к вопросу о том, не являлось ли философствование языческой Академии исключением по сравнению с другими философскими школами? Можем мы говорить, что платонизм явился суммированием, наиболее полным и четким выражением языческой метафизики или же его точка зрения по значимости не выделяется среди других?
Нашу статью мы начинали с рассуждений о разнице между античными натурфилософией и метафизикой, а внутри последней — между Платоном и Аристотелем. Действительно, становящееся природное бытие и абсолютно актуальный Перводвигатель Аристотеля отличаются не только друг от друга, но и от Единого Академии. Однако одна общая черта должна привлечь наше внимание. Сколь бы различно ни выстраивались концепции, служащие ответом на вопрос, «Что есть Все?», они стремились представить это все как «нечто Одно».30 Одно, которое не совпадает с наличной совокупностью вещей, но является их принципом, даже если выражается в таких чувственных образах, как «влага» Фалеса. Монизм античной философской культуры не означает выделения чего-либо из набора рядоположных элементов. Вспомним термин «архе», которым Аристотель обозначал первоначала досократиков. Он означал не только исходное в сущностном смысле этого слова, но и властвующее, превосходящее по статусу все остальное. Каким бы именем ни нарекался данный принцип, он всегда сохранял свое превосходство,31 а потому вставал вопрос о его выразимости через образно-понятийный ряд, идущий от природной явленности сущего или от религиозной традиции. Философский язык досократиков черпал термины именно из этих сфер: либо из наблюдений за природой, либо из мифорелигиозного сознания. Но первые всегда «меньше» первичного, второе же сохраняет обязательный элемент тайны, религиозного почтения перед высшими сферами. Отсюда — элементы апофатики, которые проникают в античную философию уже в VI в. до н.э. Мы упоминали элеатов как родоначальников апофатической диалектики, разработанной позже Платоном. Но множественность имен, которые дает своему Началу Гераклит (Логос, Огонь, «Одно», Зевс, Борьба и проч.), также подсказывает, что конечная его выразимость последовательным и непротиворечивым образом невозможна, — следовательно, и здесь присутствует нечто от апофатического духа.32
Несомненно, что лишь в учении Платона Абсолют получил то законченное апофатическое выражение, которое стало предметом нашего интереса. Несомненно же, что история досократической философии была предпосылкой такого учения. У элеатов Единство — еще предикат бытия, превосходящего, правда, по всем характеристикам любую из частных форм, в которых оно дано нашему восприятию. Однако бытие, утвержденное Парменидом и в качестве Первоначала, не удовлетворяет своему определению Единства — и никогда не могло бы удовлетворить ему. Это прекрасно продемонстрировал софист Горгий,33 а затем сам Платон в диалоге «Софист».34 Все это вызвало окончательное выведение основателем Академии Единства за пределы бытия и превращение любого сущего в предикат такого Начала.
Однако умещается ли в движение античной философской мысли Аристотель? Этого ученика Платона, как представляется, с полным правом можно зачислить в родоначальники «интеллектуализма»: кто, как не Аристотель объявил Абсолютом Ум, мыслящий сам себя? Наглядность и очевидность данного факта настолько впечатляет, что обычно оказываются непроясненными причины, по которым Аристотель отступает от сверхпоследовательной позиции своего учителя. А они заставляют внимательнее присмотреться к аристотелевскому Уму-Перводвигателю.
Итак, Аристотеля не устраивает понятие «Единое». Не устраивает по той причине, что оно слишком близко по смыслу понятиям «элемент» и «монада». Вне всякого сомнения, во времена Древней Академии техническое употребление термина «Единое» еще не устоялось. В памяти еще имело силу натурфилософское понимание Начала (Одно, выраженное через стихию-элемент) и пифагореизм, где Единое, по-видимому, не противопоставлялось «монаде». Элемент, причем элемент, родственный началу числового ряда, — таков, утверждает Аристотель, настоящий смысл термина, используемого Платоном для обозначения Абсолюта. Он пишет: «...существо Единого в том, что оно некоторым образом есть начало числа, ибо первая мера — это начало; ведь то, с помощью чего как первого понимаем, — это первая мера каждого рода; значит, единое — то начало того, что может быть познано относительно каждого рода». Правда, при таком понимании Единство теряет статус Чего-то абсолютного: единых предметов оказывается много. «Но единое — не одно и то же для всех родов…» (Метафизика. 1016b. 18—21), — подчеркивает Аристотель.35
Что же может заменить концепцию Единства? Аристотель действительно говорит об Уме и мышление называет «самым божественным», т.е. абсолютным, благом. Но его Ум-Перводвигатель — это не «разумный дух» христианских авторов, Филона, Нумения. Во-первых, он не распадается на мыслимое и мыслящее. Во-вторых, тождество первого и второго еще не означает диалектического развертывания внутреннего содержания Ума (что было бы само собой разумеющимся для новоевропейских воззрений). Аристотель не выводит из Абсолюта мир, а, скорее, говорит об Уме как о находящемся вне Космоса, как о предмете, являющемся совершенным смысловым завершением сущего. Непроцессуальность мышления Абсолюта подчеркивается его созерцательностью. В созерцании нет движения как такового; тем более его нет в самосозерцании. В конечном итоге Аристотель характеризует Ум как «простоту». Этот термин, по его мнению, является более адекватным, чем «единство» (Метафизика. 1072 а. 32—34).36
Абсолютное актуальное бытие Ума, конечно, нельзя приравнивать к сверхбытийному Единству, но совершенно ясно, что Аристотель стремился выразить те определения Первоначала, которые свойственны всей античной философии: единственность, простота, неизменность, самодостаточность, превосходство над всем сущим. Платонизм формулировал их наиболее последовательно, поэтому-то на закате эллинизма, «перепробовавшего» самые разные формы сказывания об Абсолюте,37 античность возвращается к суждениям Платона из «Софиста», «Парменида», «Государства», окончательно выстраивая концепцию Божества, превосходящего все возможные предикаты. А потому платонизм и неоплатонизм, не совпадая с другими античными школами, тем не менее достаточно адекватно передавали и их внутреннюю интенцию.
***
История платонизма не исчерпывается языческой античностью. Весьма далекое от современных воззрений, это мировосприятие не может не вызывать к себе симпатию — порой совершенно невольную, как напоминание о «золотом веке», в котором некогда пребывала наша мысль. Платону воздают должное даже те, кто считает его философствование лишь принадлежностью прошлого. «Христианский платонизм», платонизм Ренессанса, платонизм в русской религиозной философии, «платонизм» Гуссерля — все это попытки возрождения того философствования, что было свойственно Платону. Однако как ни стремились мыслители более поздних эпох возродить платоновский стиль мышления, они лишь приспосабливали его под нужды интеллектуализма и историзма. При этом никто из них не обретал, естественно, важную для древнего сознания уверенность в совершенстве и устойчивости мироздания как такового, во всей полноте его бытийных уровней, ибо она невозможна без античного представления о Первоначале как основе бытийной иерархии, лежащей совершенно за пределами последней.
Попытки философов в течение многих столетий возродить дух Платоновского любомудрия провоцируются, вероятно, их ощущением, что с этим духом безвозвратно и окончательно утрачено нечто жизненно важное. Однако утрачено ли? Нет, золотой век философствования не канул в прошлое; он всегда — настоящее. Прежде всего это — фундамент, на котором выстроено грандиозное и порой вычурное здание истории европейской философской мысли. Но для того, чтобы ощутить его близость, наверное, стоит хотя бы на несколько мгновений прекратить торопливый подъем по лестничным маршам здания с бесконечными этажами. Прекратить, чтобы перевести дыхание и восхититься — но не историей, а статикой, космичностью, неизменной завершенностью всего, что нас окружает, всего, что с нами происходит. Вот тогда, взяв «историю» в осторожные кавычки, мы и ощутим исходную точку европейской культуры, тот ее начальный пункт, который до сих пор кажется чем-то завершенным и устойчивым, — античную метафизику с ее идеей абсолютного единства всего сущего.
ПРИМЕЧАНИЯ
1На наш взгляд, столь же «натурфилософична» была догматика киников, по крайней мере во времена Антисфена и Диогена Синопского.
2См. также некоторые герметические трактаты, где термин «Ум» - одно из обозначений Первоначала.
3Здесь, правда, необходима одна оговорка: Климент Александрийский и Ориген, творчество которых лежит в основании теоретической христианской мысли, жили и творили еще до возникновения римского неоплатонического кружка.
4Даже схоластика XIII—XV вв., для которой мир как аналогия сущего значил куда больше, чем для Филона, вовсе не ставила знак равенства между Вселенной и ее Творцом.
5А ведущий эту часть диалога Парменид предлагает собственное «положение о Едином самом по себе» (см.: Платон. Парменид. 137b).
6«Если есть Единое, то оно в то же время не есть Единое ни по отношению к себе самому, ни по отношению к другому» (см.: Там же. 160b)
7«Если единое не существует, то и иное не существует» (см.: Там же 166b).
8Таким вторым отрицанием является вторая гипотеза диалога по отношению к первой.
9Плотин. Эннеады. V.3.11. — В дальнейшем — в тексте: Энн.
10Постижение Начала Плотин сравнивает с исступлением, а не с мыслью и созерцанием (см.: Энн.VI.9.11).
11Беспредельность Единого нужно понимать, скорее, как его неопределимость (см.: Энн. V.5.10, где апофатический принцип проведен еще строже: Единое и не беспредельно и не определено). Поэтому Плотин говорит о нем как о простоте: то, у чего наш ум не в состоянии указать частей, просто. Оригеново отождествление простоты с границей Плотин, таким образом, обходит.
12«Оно не знает себя» (Энн. V.6.6).
13Быть может, знаменитое Плотиново «Пусть боги сами приходят ко мне» (см.: Порфирий. О жизни Плотина. 10) было вызвано не заносчивостью удостоенного харизмы гностика, а раскрытостью к этому Ничто, пониманием невозможности прийти к Единому, а потому рожденной совершенной аскезой уверенностью в ответном движении с небес.
14«Нисходя, насколько возможно, в иное, Единое кажется многим, но его первоначальная природа ведет к единству» (Энн. VI.5.1).
15Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. I.4.
16В неоплатонизме душа безусловно бытийна, более того, будучи энергией Всеобщей Души, она способна охватить и Ум, являющийся бытием в собственном смысле этого слова. Поэтому душа для неоплатоников не является «полубытием», она создана вместе со всем бытийным сверхсущим началом, а не находится «на грани небытия» — как в христианстве.
17Это приближает Тертуллиана ко взглядам платонизирующего стоика Посидония (I в. до н. э.).
18Напомним, что в неоплатонической трактовке платоновской триады «Бытие — Жизнь — Ум» Жизнь оказывалась ниже Бытия.
19См.: Лосский В. Очерки мистического богословия восточной церкви //Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 114.
20Фр. 17 (ссылки по: Places E. des. Numenius. Paris, 1973).
21Впрочем, «историзм» в его христианском смысле возникает не сразу же с «пришествием Христа». Мы не будем касаться таких «языческих» предпосылок «историзма», как «Всеобщие истории» Плиния и Посидония или идея «золотого века», этого необходимого атрибута императорского правления. Остановимся на апологетическом движении II в., венцом которого стало творчество Климента Александрийского. Апологии христианства создавались не столь ради привлечения на свою сторону «сильных мира сего» (именно им они были адресованы), сколь ради утверждения права христианства на существование, очищения его от иудаизма и ересей. Неявным образом эти апологии ставили вопрос об отношении христианства как религии принципиально молодой, новой (после жизни Христа прошло всего лишь столетие) к традиционным религиям: язычеству и Иудаизму. Простое их отбрасывание как чего-то бессмысленного и несущественного обычно было связано с гнозисом или с эсхатологическими движениями типа монтанизма. И в том, и в другом случаях проблема истории вытеснялась острым ощущением приближения конца мира, этого итога борьбы между «детьми света» и «детьми тьмы», которое отодвигало прошлое в область случайного, ошибочного, лишая его перспективы будущего. Климент корректирует апологетов христианства II в., увлекшихся обвинениями язычества. Он считает, что иудаизм как-никак сформировался в рамках признанного и христианами Ветхого Завета, языческая же философия имела «правоту» перед Богом и являлась частью Его Промысла. Это утвердительное отношение к прошлому, вместе с осознанием совершенной новизны настоящего, христианской традиции, и создавали поле истории. Поскольку в рамках христианских представлений возвращение к язычеству и иудаизму уже невозможно, постольку история становится последовательностью неповторимых событий, хотя и группирующихся вокруг Откровения Христа, но сохраняющих свою особость, хотя и ограниченных по числу, но сохраняющих свой ценностный характер (в случае неограниченности они растворились бы перед лицом «дурной бесконечности»). Таким образом, «исторический» взгляд на мир формировался не только «догматом творения», но и самими условиями утверждения христианства в миру.
22Проясняющей многое может стать трактовка диалогов Платона, сформировавшаяся в школе Гегеля. Они понимались (и понимаются до сих пор) как логическое, продуктивно-творческое движение, созидающее понятия. Между тем в диалогах ничего не возникает, в них происходит раскрытие уже имеющегося знания («анамнесис»), движение к эйдосу как истинному облику вещи согласно самому эйдосу. Нельзя отрицать диалектичности Платона, но это вовсе не означает его «диалогичности»: эйдос не возникает в точке взаимодействия двух философских позиций, он есть изначально. Рассуждения вызываются и направляются фактом его бытия. Как предпосылка движения мысли эйдос предшествует размышлениям героев платоновских диалогов. К слову, в большинстве случаев произведения зрелого Платона «диалогами» можно назвать лишь условно. Они либо вообще «монологичны» (как «Тимей», «Федр»), либо же реплики второго участника («Прекрасно сказал!.. Как это?») только оттеняют речь первого.
23Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии. М., 1976. Т. 2. С. 238.
24Кант И. Критика чистого разума. М, 1994. С. 27.
25Там же. С. 358—379.
26Скептицизм Юма отличается от античного хотя бы потому, что для последнего в сфере действия, праксиса, нет дистанции от истинного обстояния дел. «Доказательство ослабляет очевидность», — вот окончательный приговор античных скептиков по поводу суждений о богах (см.: Цицерон. О природе богов.) Но это — скорее положительная посылка, чем отрицательная. Для Юма же даже непосредственность традиции не является критерием самоочевидности ее основания. Античный скептицизм имеет апофатическое звучание, новоевропейский — не переходит грань между познающим и познаваемым (даже если последним является само познающее).
27«Мы понимаем, что нравственные законы не только предполагают существование высшей сущности, но и, будучи в некотором ином отношении безусловно необходимыми, с полным правом постулируют ее, хотя, конечно, лишь практически» (см.: Кант И. Критика чистого разума. С. 381).
28Добавим, что предметом созерцания у Плотина выступает Единое, «насколько оно дано мышлению», т.е. более высокое, чем Ум.
29Ход мысли, основание которого заложил еще Парменид своим «Путем истины».
30Даже такие натурфилософы, как Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит, тяготеют к идее единства. У первого единящей и правящей в подлинном смысле этого слова является Любовь (особенно если его поэму «О природе» рассматривать вкупе с поэмой «Очищения»), у второго — Ум, у Демокрита—атом, для которого пустота есть нечто внешнее, несущественное.
31А потому влага Фалеса — не физическая вода и не абстрактный принцип. Она есть символ той же изначальной субстанции, что в космогонических представлениях обозначались как «первоводы», как Хаос — той субстанции, что и породила мир. Недаром Фалеса не раз упрекали, что он «всего лишь» разгласил тайное знание, начертанное на стенах египетских храмов («вначале были воды...»).
32Здесь же можно вспомнить Эмпедокла, говорившего, что действительным знанием обладают лишь боги, или Анаксагора, настаивавшего на чистоте и несмешанности его Начала (Ума).
33См.: Секст Эмпирик. Против ученых. 65—87.
34См.: Платон. Софист. 242а и далее.
35Отметим также и то, что Аристотель рассматривает Единое скорее как предикат, чем как субъект сказывания. Единое, как и все остальные общие понятия, становится «сказывающимся» о сущности, а не самой сущностью «в первичном смысле»
36Хотя — как это ни парадоксально — Уму мы можем приписать и предикат единства, ибо «все, что не имеет материи, есть безусловно единое» (Метафизика, 1045b. 25). Ум материи (бытия-в-возможности) не имеет.
37Если кинизм и эпикуреизм, учения «догматические», концентрировавшиеся вокруг этических проблем, создавали такие концепции Абсолюта, где на первое место выходили идеи автаркии и автономии (т.е. Первоначало выступало идеалом истинного «этоса»), то в скептических рассуждениях заметна апофатическая тема. Стоическая же картина мироздания, в котором правит единое и единственное начало (именуемое стоиками и Пневмой, и Огнем, и Зерсом, и Умом), проявляющееся через деятельность многочисленных демонов-посредников, станет одной из предпосылок неоплатонизма.
©СМУ, 1997 г.
НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ